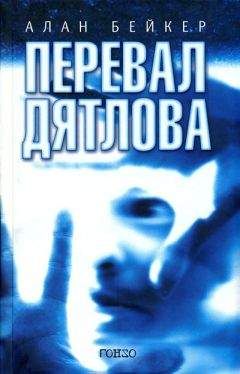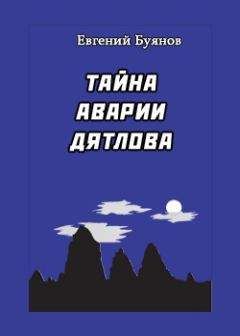Детей у Николаева не было, да это и к лучшему. Марусе хватало детей на работе: она трудилась на ниве просвещения, директором детского дома. Что получалось из несчастных детишек, волей судьбы оказавшихся под властью полубезумной фанатички — остается только догадываться. Впрочем, у Маруси были хорошие качества: она была очень честной, принципиальной, безжалостной к ворам и расхитителям собственности советской страны, так что дети питались вполне нормально. Повара и воспитатели дрожали от ужаса не меньше воспитанников. Некоторые дети даже вырастали вполне приличными тружениками и передовиками, вступали в партию… Маруся Кошкина умела убеждать.
Николаев с любовью посмотрел на бесноватую стерву в засаленном халате, подвязанном веревочкой: Маруся считала мещанством тратить деньги на тряпки. Халату было лет двадцать, кое-где он прохудился, но жена нашила заплатки из разных кусочков ткани. В диком халате, с газетой “Правда” в руке, с вылупленными от негодования глазами, белесая худая женщина была цельной и по-своему привлекательной. Николаеву нравились цельные и сильные люди. Вот Марусю он не хотел бы допрашивать, такие, как она, плевали следователям в лицо, объявляли голодовку, пели в битком набитых камерах “Интернационал” и, теряя сознание от пыток и побоев, никогда не признавали вину.
— Знаешь, Маша, мне один профессор сказал, что у меня линия жизни нехорошая, — пошутил майор, находившийся в самом лучшем расположении духа. — Умру я скоро.
— Профессора посадить, вредные книги изъять, вот что следует делать в таких случаях, — заорала Маруся. — Ты поддался влияниям тлетворного мистицизма! Я завтра же поставлю вопрос в твоем парткоме о возможности твоего пребывания в партии!
Но Николаев видел, что жена заинтересована и ждет продолжения. Вопли и визги были нормальным семейным общением, а угрозы сопровождали даже супружеские объятия, во время которых Маруся никогда не снимала очки, пристально, в упор разглядывая сосредоточенное лицо мужа…
— Ну вот ведь Мессинг выступает, к примеру, — примирительно рассуждал Николаев, — ищет вещи спрятанные, угадывает фамилии…
— Все непонятное со временем будет объяснено! — каркнула жена, закуривая дешевую папиросу. — Наука и техника разоблачают то, что казалось таинственным и волшебным еще несколько десятков лет назад. Ты мне еще про плачущие иконы расскажи. И про явление Христа народу.
— Профессор сказал, чтобы я ни в коем случае не ездил в путешествие, — ухмыльнулся Николаев.
— А куда это ты собрался? — с припадочными интонациями вопросила супруга, роняя столбик пепла на пол.
— Никуда, — ответил майор. Он всей душой отдыхал во время этого милого семейного общения, как отдыхают пожилые супружеские пары во время тихого чаепития. Читать ему не хотелось, он был сыт, немного устал за эти суматошные дни, а Маруся стояла в своем заношенном до дыр халате, как вечная статуя Свободы, Равенства и Братства, непоколебимая, как идеалы Коммунистической партии, успокаивая и умиротворяя. Всякие манси, шаманы, хироманты и идолы стали казаться крошечными и глупыми, растворились, как кусок желтого рафинада в стакане горячего чая, которым майор любил побаловать себя на работе.
— Смотри! — угрожающе проорала жена. — Не дорожишь ты своим партбилетом, я вижу. Лет двадцать назад поставили бы тебя к стенке за такие разговорчики! Ишь ты, нагадали ему короткую жизнь! Я тебе без всякого гадания скажу, что с тобой будет, если ты увлечешься вредной философией. — Маруся шумно глотнула дым и закашлялась. — Мне, кстати, одна эсерка-кокаинистка тоже в шестнадцатом году по руке гадала…
Николаев потрясенно поглядел на жену, досасывающую вонючий окурок. То, что сказала Маруся, было настолько удивительно и странно, что он ощутил легкое головокружение.
— Ясно, что я еще не полностью разделяла и поддерживала линию партии большевиков, хотя бы в силу своего возраста! — хрипло орала Маруся, усаживаясь на стул костлявым задом. — О чем впоследствии и написала чистосердечное заявление с самокритикой в партбюро обкома, но меня не стали наказывать, если помнишь. Так вот, эта эсерка мне предсказала совершенно невозможные вещи: что я буду много раз умирать, тонуть, висеть и все равно выживу. Помнишь, меня кулаки топили в проруби? А вешали на сеновале? Ну ладно, еще она сказала, что я выйду замуж за военного человека, настоящего мерзавца, а потом — овдовею. Так что, верить во всю эту чушь только потому, что кое-что совпало?!
Николаев обескуражено моргнул. Что, интересно, совпало? Насчет смертей или насчет мерзавца-военного, каковым, по всей видимости, он и является? А Маруся продолжала:
— Ее звали Симочка, такая была настоящая революционерка. И очень, знаешь, хорошо гадала. К ней сам товарищ Троцкий тайно приезжал, еще до того, как сбился с курса и стал преступником… Говорят, что она и Крупской гадала, и Инессе Арманд. И все сбывалось. Потом она взорвалась на вокзале в Бердичеве: везла гремучую смесь. Вот такая штука. От нее почти ничего не осталось: так, груда окровавленных ошметков, рука, нога да несколько революционных брошюр. Она хотела взорвать полицмейстера бердичевского, за организацию погромов, да вот не повезло, трубочки с нитроглицерином оказались слишком хрупкими…
Маруся бросила окурок на пол и уселась на стул, схватив газету. Майор смотрел на истощенное тело жены, на ее резкий профиль, его охватил страх, суеверный страх крестьянина, столкнувшегося с необъяснимым природным явлением вроде шаровой молнии. В сущности, он был малообразованным, хотя и хитрым человеком. Он вспомнил страшные рассказы про вогулов и жертвоприношения, вспомнил предостережение старичка профессора, мрачные названия на карте — и испугался. Испугался, как маленький деревенский мальчик, которым был когда-то, много лет назад, и в темном амбаре слушал ночью жуткие сказки слепого пастуха Трофимыча, услаждавшего в нетрезвом виде слух окрестных детишек байками про кикимор и леших… Майор тряхнул седой головой, чтобы прогнать наваждение, крякнул и отправился на боковую, раздавив своим плотным телом ржавые пружины своего убогого ложа.
Через два дня в здании Комитета госбезопасности состоялся еще один важный разговор, еще одна встреча, от которой зависел исход экспедиции. На этот раз встречались майор Николаев и чернявый, кудрявый человек с золотыми коронками на передних зубах. Золотые фиксы загадочно поблескивали в полутьме кабинета, черные масляные глаза впивались в широкое лицо майора. Степан Зверев умел слушать, особенно начальников, дающих ему самые сложные и трудновыполнимые задания. Майор сидел за столом, а Степан — напротив, на жестком стуле, предназначенном для посетителей; дверь в кабинет они заперли, притушили лампу и склонились над той же картой, которую недавно Николаев показывал заведующему туристическим клубом института.
![Анна Кирьянова - Охота Сорни-Най [журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)